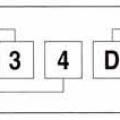|
Высокая энергоемкость российского ВВП – это наследство плановой экономики, от которого за 14 лет так и не удалось избавиться. В любой плановой экономике энергоресурсы используются гораздо менее эффективно, чем в рыночной, независимо от климата и размера страны. Существует крайне ошибочное мнение, что высокая энергоемкость России – это данность и «цена холода», и поэтому «Россия – не Америка» и никогда ею не станет. В этом случае выражение «богатый» Север и «бедный» Юг, широко используемое в глобалистике, было бы неверным. Полюс богатства расположен ближе к северу. В 1985 г. в «холодном», но «бедном» СССР на цели отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения жилых помещений в расчете на душу населения потреблялась 1 тонна условного топлива (ТУТ) в год, а в «теплых» США – 1,9. Дело не в климате. Северная Корея не настолько северная, чтобы только по этой причине энергоемкость ее ВВП была в 8 раз выше, чем в Южной Корее. Высокая энергоемкость – это цена «экономической неволи». Возвращение из этой неволи к рыночной экономике позволило Польше повысить ВВП в 1990-2003 гг. на 52% при снижении потребления энергии на 6%. Температура на душу населения в России всегда была ниже, чем во многих странах. Однако в XI-XV веках это не мешало «холодному» Великому Новгороду быть заметно богаче «теплого» Парижа. Россия не Америка не потому, что она платит «цену холода», а потому, что платит высокую цену низкой эффективности. До начала XX века русская печь в деревянном доме оставалась самой эффективной системой отопления в мире. По эффективности она превышала западноевропейский камин в 3-4 раза, а паровоз – в 2 раза. Несмотря на менее благоприятный климат, в царской России эффективность использования энергии была выше, чем в США и во многих странах Западной Европы. Картина заметно изменилась после Октябрьской революции. За 90 лет Россия вышла на 10-е место в мире по энергорасточительности, пропустив вперед только «теплые» и «очень теплые» Азербайджан, Украину, Казахстан, Туркмению, Узбекистан, Северную Корею, Танзанию, Нигерию и Эфиопию. Разрыв в энергоэффективности с развитыми странами был велик до начала рыночных реформ и остался значительным. Дефицит газа и электрической мощности, который затрагивает все большее число регионов, является результатом не только высоких темпов экономического роста, но и низкой эффективности использования газа, электрической и тепловой энергии. Дефицит электрической мощности в московской энергосистеме в январе 2006 г. стал следствием включения не менее миллиона электрообогревателей суммарной мощностью не менее 1000 МВт. Именно из-за неспособности низкоэффективной системы теплоснабжения обеспечить условия теплового комфорта в плохо утепленных жилых и общественных зданиях при похолодании на 1оС спрос на электрическую мощность растет на 0,4-0,6%. По оценкам ЦЭНЭФ, потребление электроэнергии по «Стратегии инерции» может повыситься к 2020 г. до 1700-1780 млрд. кВт-ч, в основном, за счет промышленности и сферы услуг. Большинство прогнозов потребления электроэнергии на 2020 г. лежат в диапазонах от 1215-1365 млрд. кВт-ч. («Энергетическая стратегия- 2003 г.») до 1480-1610 млрд. кВт-ч (последние прогнозы соответственно РАО «ЕЭС России» и «Росэнергоатома»). То есть в «Стратегии инерции» при динамичном росте ВВП потребление электроэнергии может расти даже быстрее самых смелых прогнозов. В последние годы в московской энергосистеме суточный зимний график электрической нагрузки имеет явно выраженный вечерний максимум. Увеличение доли коммунально-бытовой нагрузки в общем электропотреблении привело к разуплотнению графика электрической нагрузки и снижению числа часов использования годового максимума. На долю населения пришлось 84% прироста электропотребления в г. Москве в 2000-2004 гг., а доля населения и коммунально-бытового сектора в суммарном потреблении выросла до 63%. В морозную зиму 2006 г. пик нагрузки «зашкалил» за 16 тыс. МВт (на 24% больше, чем в 1990 г.), при том что многие потребители были ограничены на 650 МВт (см. рис. 1.1). Спрос на пиковую мощность является функцией эффективности использования не только электроэнергии, но и тепловой энергии (использование электрообогревателей для компенсация потери теплового комфорта за счет неадекватной работы системы теплоснабжения малоэффективных российских жилых и общественных зданий. Для Московского региона на долю этого фактора пришлось не менее 1000 МВт роста нагрузки 17-20 января 2006 г.
В мае 2006 г. РАО "ЕЭС России" утвердило план введения энергомощностей в РФ до 2010 г. в объеме 23,8 тыс. МВт. Только потребности по развитию генерации оцениваются в 1,355 трлн. руб. на период до 2010 г., из них на РАО "ЕЭС России" приходится чуть меньше 1 трлн. руб., на концерн "Росэнергоатом" – 337 млрд. руб., и на независимые энергокомпании – 61 млрд. руб. Существует еще и сетевая составляющая, инвестиционные потребности которой также составляют около 996 млрд. руб., из них 380 млрд. руб. должно быть вложено в объекты Федеральной сетевой компании, а 615 млрд. руб. – в распределительные сетевые компании. В итоге отечественная электроэнергетика суммарно должна изыскать 87 млрд. долл. за три с половиной года. До 2010 г. должно быть привлечено не менее 200 млрд. руб. долгосрочных кредитов. В последние годы изменилась модель экономического роста: от наращивания производства товаров и услуг за счет повышения загрузки производственных мощностей, построенных еще в советские годы, к необходимости обеспечения роста за счет масштабного строительства новых мощностей. Другой особенностью новой модели роста стало деление экономики России на два сектора: нефтегазовый и не-нефтегазовый. Даже при замедлении роста ВВП в целом за счет снижения темпов роста добычи нефти и газа не-нефтегазовый ВВП будет продолжать устойчиво расти, а именно его рост порождает повышение спроса на электроэнергию, тепло и газ. Важным свойством перехода к новой модели роста стало замедление снижения энергоемкости ВВП, а значит, ускорение роста спроса на газ и энергию: спрос на газ к 2020 г. может вырасти почти на 200 млрд. м3 (равно нынешнему экспорту), а спрос на электроэнергию – до 1790 млрд. кВт-ч, при том, что большинство прежних прогнозов потребления электроэнергии на 2020 г. лежат в диапазонах от 1215 до 1610 млрд. кВт-ч.
Такой рост спроса не удастся покрыть. Нехватка электроэнергии и природного газа уже стала фактором сдерживания экономического роста. Быстро увеличить их производство в капиталоемких отраслях ТЭК невозможно, тем более что формирование дефицита электрической мощности и предложения газа происходит на фоне перегрузки инвестиционного комплекса экономики, который неспособен, не ускоряя инфляции, «взять вес» дополнительных значительных инвестиций. Одна из причин ситуации с дефицитом мощности – отсутствие надежных прогнозов роста потребления энергоресурсов и культуры принятия упреждающих экономических решений, а также отсутствие оценок стратегических направлений развития территорий и слабая координация развития отдельных подсистем регионального и городского хозяйства. В России в 1990-2005 гг. энергоемкость снизилась на 30%, но все же Россия осталась в группе самых энергоемких и электроемких стран мира. Для сравнения: Китай снизил энергоемкость ВВП в 1970-2003 гг. в 4 раза при предельно серьезном отношении китайского правительства к этой проблеме, а до 2050 г. собирается снизить энергоемкость еще в 3-5 раз. В 1998-2005 гг. даже снижение энергоемкости в среднем на 4,6% в год (при расчете по методике Международного энергетического агентства) оказалось не способно остановить динамичный рост спроса на энергию и мощность. Динамичный рост спроса на газ и на электроэнергию оказался выше предусмотренных в «Энергетической стратегии России» значений. «План» на 17 лет по росту потребления газа был выполнен за 1 год. По электроэнергии реальный рост потребления оказался вдвое выше определенного «Стратегией». При динамичном росте спроса на газ и электроэнергию в целом по стране в отдельных регионах и городах он растет еще быстрее, а нехватка газа и электроэнергии ощущается все острее и уже стала фактором, определяющим «пределы роста». Потенциал снижения объема энергопотребления в России на основе межстранового анализа может быть оценен в объеме 50% по энергии и 55% по электроэнергии. Именно на такую величину может быть урезан «указующий перст» низкой энергоэффективности .
Выступление А.Б.Чубайса
http://www.arhen.ru |
Санкт-Петербург, 2007. E-mail: ur.igolana@ofni
 Для того чтобы по сценарию «Стратегия инерции» (с ограниченным повышением энергоэффективности) покрыть растущий спрос на электрическую мощность, по оценке ЦЭНЭФ, необходимы капитальные вложения в 2006-2020 гг. в размере не менее 250-330 млрд. долл., что эквивалентно 7-9% ежегодных капитальных вложений в российскую экономику (см. рис. 1.2). Экономика не может выдержать такую нагрузку без замедления темпов роста или без динамичной переориентации на «Стратегию эффективности». Инвестиционная программа российской электроэнергетики (без строительства АЭС) должна возрасти со 100 млрд. руб. в 2006 г. до 400 млрд. руб. в 2007 г. и затем до 470 млрд. руб. ежегодно в 2008-2009 гг. К этому следует добавить 54 млрд. руб. на строительство АЭС в 2007 г.
Для того чтобы по сценарию «Стратегия инерции» (с ограниченным повышением энергоэффективности) покрыть растущий спрос на электрическую мощность, по оценке ЦЭНЭФ, необходимы капитальные вложения в 2006-2020 гг. в размере не менее 250-330 млрд. долл., что эквивалентно 7-9% ежегодных капитальных вложений в российскую экономику (см. рис. 1.2). Экономика не может выдержать такую нагрузку без замедления темпов роста или без динамичной переориентации на «Стратегию эффективности». Инвестиционная программа российской электроэнергетики (без строительства АЭС) должна возрасти со 100 млрд. руб. в 2006 г. до 400 млрд. руб. в 2007 г. и затем до 470 млрд. руб. ежегодно в 2008-2009 гг. К этому следует добавить 54 млрд. руб. на строительство АЭС в 2007 г.

 Россия – это Саудовская Аравия в сфере повышения энергоэффективности. У нас ресурс повышения энергоэффективности в 3-4 раза больше ресурса наращивания производства первичных энергоносителей до 2020 г. Потенциал энергосбережения превышает 370-390 млн. тут (без учета транспорта), или 40% от суммарного потребления, включая возможность снижения потребления природного газа на 170-180 млрд. м3 . Наибольший потенциал повышения энергоэффективности имеют жилые и общественные здания, за ними следуют промышленность и системы теплоснабжения.
Россия – это Саудовская Аравия в сфере повышения энергоэффективности. У нас ресурс повышения энергоэффективности в 3-4 раза больше ресурса наращивания производства первичных энергоносителей до 2020 г. Потенциал энергосбережения превышает 370-390 млн. тут (без учета транспорта), или 40% от суммарного потребления, включая возможность снижения потребления природного газа на 170-180 млрд. м3 . Наибольший потенциал повышения энергоэффективности имеют жилые и общественные здания, за ними следуют промышленность и системы теплоснабжения.